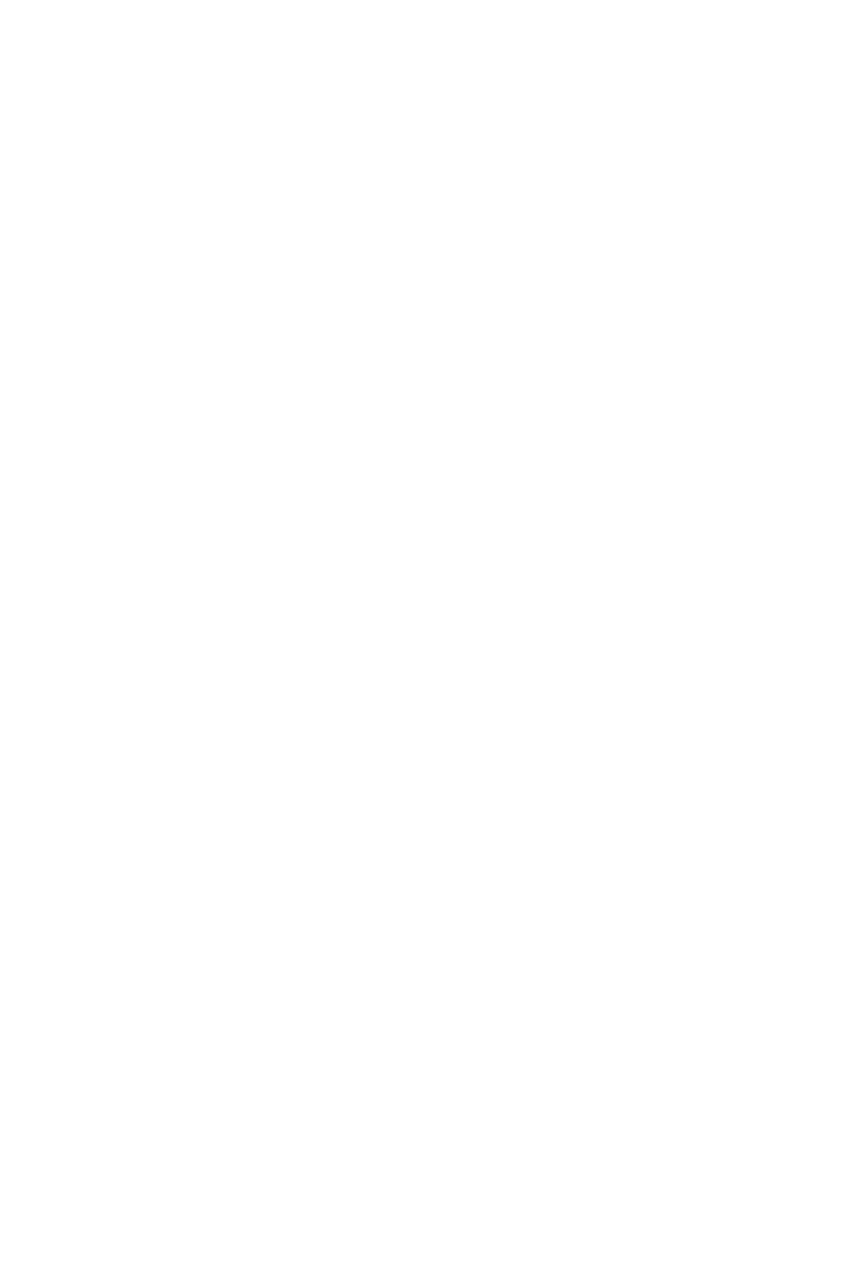
ЖЕСТОКИЕ РЕЧИ
Стихотворения
Телообретение
Враг обратится в бегство,
в волка, туман, змею.
Сговор, дурное соседство –
плата за колею.
Свет нестерпимо белый,
быть даже слишком зрячей.
День обретения тела,
час и год обозначен.
РЕЖИМ РАДИОМОЛЧАНИЯ
* * *
Под этот новый год
я встретила кристальное, святое одиночество,
искрящийся, рыдающий сочельник,
как глупое газетное пророчество,
плывущий в городе последний понедельник.
Так жутковато это дежа вю,
что только подчеркнет любой абсурд,
и, сокращая свое имя до двух букв,
железною перчаткою зимы себе я подчиню,
как манию, всю магию – радиоэфир.
Материя – экспансия живого,
и запах бездны, словно эликсир,
войдёт в тебя сквозь это засветившееся слово.
Режим радиомолчания
Твой запах всё ещё не выветрился здесь –
тотальный бред, навязчивый и липкий.
Слово «ранимый» мне так нравится, оно как взвесь,
в звон стёкол вслушиваться, поймать отсвет ошибки.
Солнце – открытость всем подряд,
моложе всех, на грани ощутимого.
Карманы, полные безумия, мой мёд, мой кайф, мой яд,
быть смертью и вызовом возлюбленного, огнем любимого.
Летящий с этажа самоубийца станет птицей,
его притянет гравитацией, словно к погибели.
Режим радиомолчания не будет вечно длиться,
и в безвоздушном пространстве поцелуя ты задрожишь амфибией.
* * *
Бьющееся в припадках красное человеческое мясо
Бог судорог – благослови!
Не прерывай киносеанса
под звуки барабана войны.
Галлюцинации прорвали оцепление
из порошков и снадобий,
слепое, нелепое оцепенение
навязчивым и дымным ладаном.
Влиянье солнца чует только одинокий мак,
что обещал мне выжить.
Я из другой легенды, мой аркан – дурак,
и этот путь сожгу:
чем деликатней, тем опасней хищник.
* * *
Победа обратилась в сигаретный пепел.
Преврати свою голову в автоответчик.
Где-то в этой стихии бреда,
в черном блюзе оборванных строк, – твой советчик.
Запиши у себя на запястьях, на ладонях и на фалангах,
что твой дар – раскаленная флейта,
а начало строки сродни бою на флангах.
Протяни в никуда билетик,
докажи, что ты просто ефрейтор.
Из распахнутых окон в заброшенном доме:
карта звездного неба, разорванная пополам,
тени вынутых фото в чужом альбоме,
отзвук голоса, что зовет по ночам.
* * *
Мне показалось, будто я
могу стоять тут вечно, точно камень,
так, словно оттолкнувшись ото дна,
перебирая в воздухе ногами,
повисла в метре над землей
и не смогла вернуться в тело,
как мысль, ускользнувшая змеёй,
дает почувствовать пределы
и, открывая город ящиком Пандоры,
случайно выпустить все зло,
где лабиринты, стены, коридоры
впитали лишь осколки слов.
Голубая роза
Длина строки – длина дыхания,
моя угасшая голубая роза.
Пусть даже свет твоего полыхания
выглядел как угроза, –
всему, что смело тебя коснуться,
познать, как хрупок бывает трепет,
что укрывает дорогу распутства,
остывший, серый, безликий пепел.
Оттрепетало пустое, блестящее,
как будто вышло в часах всё время…
Кто так и не смог стать настоящим,
тот даже не проклят и вовсе не темен.
Реми
Сегодня весельник, а завтра висельник.
Святой Реми, береги его
от кабаков и веселых песенок
и от крутых берегов.
Заволочется река та плесенью,
и черт потянет его на дно,
убереги же его от чудесного
и тяжелее сделай весло.
Глаза опустит на водную гладь –
да сохранить не сможет души.
Молись и смейся, только не сглазь
того, кого лучше бы и задушить.
Там, в отражении темных глаз,
искрится снег неземных вершин,
и покаяние – только шанс,
предлог остаться навечно живым.
Адова псарня
Почему перестали укачивать поезда?
Фонари гаснут над тем, кто неясен.
Я – это то, что ты никогда,
как это – быть и ничего не значить?
Каким бесом такой обласкан?
Но в этом нет ни капли романтики.
Судьба у поэтов – облаивать пустоту,
и в железной клетке грамматики
все закончится страшно и даже смешно, как в аду.
Но в этой псарне никто не молится,
всё очень просто, никто не умеет,
и словно лаем, словами заходятся
все те, кто ярче других, но темнее.
* * *
Я чувствую дождь, когда он еще облака,
изгоем вернется и маски в зеркале превратятся в лица.
Дождь никогда не кончится, он будет длиться,
шуметь и литься со стен и потолка.
Намокнет небо из блеклого ситца
осколками блюдец фарфоровых, каплями молока.
Так время в минутах станет греметь и дробиться,
в незримых часах секундная стрелка отстала слегка.
Пророчество, обреченное сбыться,
где все, что угодно, – только частица,
и грусть, невесомая, как пыльца,
в сошедшей воде чешуей останется, чтобы мерцать.
* * *
Реальность смотрит Дорианом Греем с портретов витрин.
Провинциальный город сидит на тебе, как влитой.
Наряжен, выглажен, будто бы для смотрин…
Как бы не стали экраны могильной плитой.
Не отражаться вовсе бы и не отражать!
Трамвай, идущий в бесконечность, сбился с маршрута.
И выцветает луна за минуту до серого, как почтовая печать,
так, словно кто-то адреса перепутал.
Когда ты выключишь свет, музыка все еще будет звучать,
но не держи огонь, все равно не удержишь.
Так напряжен дверной глазок, пуста скважина без ключа,
когда однажды внутри тебя будто ломается стержень.
* * *
Удушлив запах розового куста в дождливый день…
уже прошедший пик цветения,
крадется угасанье в сумерках, что тень,
и мягкий аромат стал пасмурным, как наваждение.
Шиповник прячется от глаз между колючими кустами,
душист и душен, опадающ,
и цвета терпкого вина плоды, не прикоснись губами,
остерегайся колкости, шип лаской обжигающ.
Включи меня в путеводитель своих снов.
Обманна манкость самой горькой злой травы.
…Один есть, ядовитее других всех сорняков,
но ягод опьяняющих тела красны.
* * *
Никогда не вспомнишь, что с тобой случилось, когда было шесть
и почему так легко покупать на ласку снова.
Твой бог – колдун и веретник, и твоя правда – месть,
а имя – как несуществующее слово.
Смеющийся ребенок знает всё,
скользящий и саднящий вальс затих на время.
Как нарисованное мелом колесо,
одушевленным быть – и пустота, и бремя.
И превращаться в собственную тень,
но музыка, что без досады, вся фальшива,
изображение двухмерно и мельтешит мигрень,
словно коня девятиногого распущенная грива.
* * *
Рвала и резала фотографии:
серые танки в черном лесу.
Мне не найти твоей эпитафии,
поминать некогда, недосуг
оплакать то, что уже прошло,
когда так громко играет марш…
«Сейчас» – забвения порошок,
пустое будущее – наглый шарж.
Шарф как можно туже стянуть узлом,
фарш не прокрутишь, как время, назад.
Осознавая безликое зло,
в нем самого себя бы не опознать.
Адские яблоки
Снять наговорное с ножа языком…
Хороши были в поле васильки.
Теперь в горле стоит ком,
горчит из смолы эликсир,
Так сладки яблочки в аду,
а твое имя звенит, как медь.
Я в черный лес по своей воле бреду.
Кому-то все же суждено уцелеть.
И если свеж, как кровь в молодых венах,
но недоступен, как камень на дне реки,
то, открывая охоту, заливаясь гиеной,
тебя учую на расстоянии вытянутой руки.
* * *
Сентябрь – так, словно упал в костер
или забыл разлюбить,
слепоглухонемой хроникёр
делает вид, что забыл, где нас связавшая нить.
Здравствуй, оборванный ветром день!
Нервно перебрасывать руны,
просить разрешения стать не тем,
обречённым, заново юным,
бесконечно воющим о своей любви…
Но есть особый вид святости – молчание.
Что на этот раз изъело изнутри?
Благоразумие? Смирение? Желание?
Голод
Торговля голодом под видом изыска,
торговля смертью под видом шоу.
Уходишь городом в поисках смысла:
повешен гордый, смелый смешон.
И в чем различны крысолов и крыса,
кто злом и золотом обременен?
Там, где облезет краска с кадра реальности,
исчезнут разом воспоминания,
но зло не может иметь срока давности,
оно кристально бессмертно, хоть и не знает дыхания.
И бессердечие – только повадка,
пустяшный повод стать еще идеальней
где каждый взгляд становится схваткой,
а каждый круг еще инфернальней.
Но пораженный этой догадкой
обречён стать жертвой сакральной.
Сорокоуст
Не заказывай по мне сорокоуст…
Смех ангелов звучит невыносимо громко,
когда ты знаешь, что внутри так пуст
и вытерлась душа магнитной пленкой.
За линией событий весь засадный полк,
и смотрит темнота в тебя устало,
так же, как в детстве, всех опаснее игрушечный злой волк,
и никакое время не настало.
Почти молчанием из всех богов темнейшего,
но не смотри в лицо своей судьбе,
тягучий омут, тканями реальности трепещущий,
прочнее, чем оковы и нет мольбы больнее и верней.
Жилы
Святые жилы,
пустые сны.
Слепые силы –
все те, что живы
в сезоне опадающей листвы.
Наш поезд возвращается из ада,
мучительно и молча выживать,
так, словно горевать осталось лишь по листопаду,
засада дней – всем и судьба, и мать.
И дымом сладковатым станут клятвы,
когда за левой рукой – рать,
слова все разрываются, будто снаряды,
и алые – в цвет вен – наряды
вне зарева огня перестают играть.
Бегония
Свет переходит в полумрак,
кто-то значимый заменяется собственной тенью.
Заливать огнем похоти этот овраг:
повторять бесконечно потерю.
Приручить бы грусть, словно ласточку,
отгоревшее сердце – пустая свинцовая форма.
Расскажи мне еще эту сказочку,
где уже никому не больно.
Растерявший себя в агониях,
как бесцветный паззл, бесполезный элемент,
так утратила яркость бегония,
что впитала все зло, обменяла на цвет.
* * *
Преследуя красное свечение,
стремиться поглощать угасающее солнце.
Менять тела – развлечение,
кровотечение первородства.
Топазы разлетевшихся тарелок,
алый цвет ярости – вечный предмет.
Развенчание – сила всех смелых,
лучшая косметика для нечисти – лунный свет.
В нимбе из ножей: крови отец, вместилище огня.
Отогреюсь, но не сгорю в костров горящем кольце.
Чтобы никто не почувствовал волка внутри меня,
я ношу овечий череп на своем лице.
* * *
Фальшивые святые –
словно подгнившие яблоки в твоём саду,
как та любовь, которую я никогда не найду,
дать ей хотя бы имя.
Поджигая всё вокруг прикосновением:
дешёвые картонные святочные светила.
Запряженная бешеными волками колесница – вдохновение,
всех черных бессонниц неистовствующая сила.
Продавая душу за бусы,
остальных держи на расстоянии лезвия ножа.
Фальшь имеет острый привкус, похожий на уксус,
ощущается раной, которая так никогда и не зажила.
Литания
Отпусти сплетню, как пулю,
и смотри, как она пробьет чью-то голову.
Обожаю амбиции – они оттеняют разочарование,
лучшие блюда готовят из голода:
открыточной смерти яркое очарование.
Я нарисую тебе бурю
на обрывке тетрадного листа,
тихую, бледную, злую,
никогда не одолеет тоска.
Смыть эту кровь нарисованного голубя,
смутное кочующее сознание,
жизнь, похожая на заброшенный ДК,
это как видеть звезды из проруби.
Бесконечная бездне литания –
все то, что кричит и бьется внутри меня.
* * *
Слова летят, попадают в цели и не возвращаются,
вина — это только плеть,
не видится, но ощущается,
и дольше других не сгорать, но гореть.
Как тот человек без деталей –
никем не любимое тело
из сотен других невостребованных тел.
Не знающий пуль и стрел,
которые все же летели, но не долетали.
Дитя чьего-то вечного отца,
физическое наличие его Величия,
который не прячет в толпе неузнанного лица,
в котором и ты не найдешь отличия.
* * *
Псины лают, ветер носит.
За забором – ничего.
Вековая темень сосен.
У колодца видно дно.
Провалившейся глазницей
смотрит полная луна.
Восковая тает птица,
у колодца нету дна.
В этой лодке, что без весел,
забывай скорее лица.
Опустели берега.
Три монеты вслед забросил.
Ты идешь к ним веселиться,
танцевать в аду одна.
ИСТОМА ОХОТНИКА
* * *
Добро пожаловать, Бальдр,
тебя изласкает моя стрела из омелы.
Я видел разрушенную славу,
поблекшее сияние облаков неоново-белых.
Нас ведёт ослепший, безумный лоцман,
натыкается в темноте вместо мелей на ямы.
Ну, а ты для меня – ярко-красная ягода с запахом свежей плоти,
я держусь только курса, прямо, прямо и прямо.
Ароматом бездны и кармы
утомительно сладко со звоном и воплем вопьется,
никогда не заставят плутать полустертые карты,
и надеюсь, что мне зачтется.
Всё вокруг в чумной темноте,
ты на ощупь еще красивее.
Мотылек выбирает герань, чтобы сгореть,
но чем больше пепла, тем горит всё сильнее.
Истома охотника
На игральной доске все фигуры расставлены наоборот.
Прикасаясь отравленным клинком – кончиком языка,
надкусить жемчужный леденец твоего кадыка.
Соединительная ткань предыдущих жизней – узкий водоворот.
Словно ярче других гуляющий по бритве свет,
а веревка виселицы плачет не из-за дождя,
но хвалебная скорбь – невесомый предмет,
моя страсть обернулась проклятьем, летит прямо в тебя.
Взять только то, до чего нельзя дотянуться,
не расплескав густое горючее нежного мятежа…
Последний глаз слепого распутства,
я всё убийцей снюсь тебе, холодной удавки шарф,
который осени этой совсем не к лицу –
так наблюдают за птицей в прицел,
с тоской когда-то разъединённых тел
стреляют в пестрейшего арлекина с криком: «танцуй!»
Покидая Гамельн
Корешок книги –
свеча в темноте.
Смех всех юродивых
принадлежит только мне.
Чума колобродит,
снимая вериги,
и ластится крысой.
Бессмертие стоило
золота Гамельна.
Болотная тина –
зеленое олово
под детскими башмаками.
Еще до падения солнца с карниза...
Всё станет легендой,
записанной в молитвенник кошмарных снов,
звучащее вечно чарует вранье.
И черная флейта моих слов –
то самое шутовское рванье,
пленительно и нетленно.
* * *
Виновен тот, кто заставляет влюбиться,
бездарный клоун крадет имена, повадки, лица.
Простой русский колдун с наполовину седой головой,
след от удавки на шее, пес сторожевой.
Божество плетей да тайная власть,
поцелуи красного волка – горячая пасть.
Как бесплодное ненавидит плодящееся,
а живое – смерть,
черный дым проглотит пустое, блестящее,
на дороге останется тот, кто сумеет посметь.
* * *
Ведьма – это ветки,
это костер,
это секреты и метки,
нож, что остëр.
Заговорённая спичка тонет в огне,
быстро летит в окно.
Примирение с реальностью в голове:
насквозь фальшивый, пустой договор.
Исполняя свои желания,
тонуть мухой в янтаре, в меду,
вложить всю страсть в одно заклинание,
верить только пламенеющей щеке
и слову «люблю».
* * *
Красная краска на моих пальцах –
как твоя слишком холодная кровь.
Дурная магия – вышивка в рамке, на пяльцах,
лёгкая звёздочка сигареты, выпавшая в окно.
Тень моих чёрных крыльев –
мимо бледных фасадов.
Зло в обрамлении терпких духов,
я продавщица ядов,
заклинание в тебе прорастает,
словно цветущий чертополох.
Позже
в закрытом пространстве города
остаюсь только я и печаль.
Проповедовать рыбам
в нимбе из золота,
позолота – отсвет делирия –
радиоактивное месторождение таланта,
терзания больного врача.
* * *
Я пролила чернила. Я сломала перо.
Строк ненаписанных ворох…
Обретаю тебя, как покой,
запах сирени для мёртвых,
отражённый, отображенный рой.
На «том» конце провода
я живу с настежь раскрытой дверью.
Ладонью – ладьёй твои проводы,
во мне так много грусти, в которую никто не поверит.
Я вижу себя на твоём месте, предчувствие омута –
полынное зелье.
Ненаказуемое колдовство:
зверем слизывать кровь твоих ран.
Эта музыка – дым, словно туманом заволокло
точку пространства, в котором ты пьян.
Он неподвижен так, словно обречён,
защищает взгляд от пламени, которое в нем отразилось,
тот, который с угасанием обручён –
память зеркала не исказилась.
* * *
Оглушенный внутренним монологом,
сильнее заворачиваясь в кокон пиджака,
пей, дорогой мой, пей, тебе надо потерять ясность ума,
это больше не пригодится, больше она не нужна
и пусть это станет прологом.
Что выменять у фатума на славу?
И чем отплатить за рознь?
Там, где, подобно грозе, упала
чернеющая, наливная гроздь –
насколько рассудок, попавший в облаву,
поверит, что все всерьез?
Что станет последним залогом?
Огнем, поглощающим ткань лепестка,
где та же луна прозрачным опалом
расцветила этот мороз.
Осколком, ударным слогом –
холодная тонкая изморозь, кромка стекла
и в ней кокаиновый привкус металла,
незваный, как гость, и прямее, чем гвоздь,
словно сам Сатана.
* * *
Всё меньше желанья любить,
всё больше желания убивать.
Поможет ли волчья прыть?
Не даст ни заснуть, ни спать.
Открой мне скорее окно…
Так тесно одной в этом мире.
С собой разлученное существо
связать толстой пряжей из яркой крапивы.
Так мстят и не помнят, за что,
одетыми в полнолунье:
впитать это золото, как молоко,
а дикого лебедя приручит колдунья.
Змей
Тело – вместилище боли,
кто бы из нас не победил.
Всё случится по воле –
только бы знать каких – сил.
Ветер и ветер проклят.
Омут да полынья –
чёрный чудовищный опыт
живших здесь до тебя.
Счастлива быть не собой -
мистика упоминаний,
но в пустоте зрачков
яд замерз, не оттает.
* * *
Соль и щелочь, псалмы для всех.
Смерть – засадный хищник,
любит тихо, тонко ценит смех,
бойся, если я обращаю внимание на то, что нелишне.
Мне легко крутить вирд , как нить,
что упало, о том забудь,
словно слёток в весенней траве, и не стоило выть,
ржавым тусклым ножом перерезанный путь.
Я учую тебя, как собака – луну.
Анатомия простой куклы вуду.
Кровоточит стол, если нож воткну.
Как мне звать тебя из ниоткуда?
Октябрь
Как деревянным мечом,
победила тебя ворожбой.
Магия – улей опасных пчел,
сомнамбулизм – совсем не покой.
Смертельные дозы морской воды,
веткой упавшей начнется буря,
фонарных столбов перевернутые мечи,
в земле ржавеют корни, жизни минуя.
Обнимаются деревья на обочине,
а я – сама себе календарь.
Никогда не жила, да и не хочется.
Скорбь без лица – обезумевшая рыжая тварь.
* * *
Старые чары… Слепота…
Цепляться за ручки, как за руки...
Я оставлю на тебе только следы огня,
оживи меня заговором,
словно я аптечная трава,
ставшая сладостным варевом.
Ощути внутри бьющую плеть:
шест гремящих подвесок,
всё, что больше не станет тлеть,
заводящий плутать перелесок.
Приворотное, приторное, притворное –
чёрный опиумный кларнет,
проклинаю твоё веселье.
Земля пахнет как смородина и чёрный хлеб,
пусть и тягостно это зелье, –
зеленее твоих глаз нет.
* * *
Приметами невозвратности,
цвет траура так не идет любви.
Сокровище боли, чувство опасности
горит как вощеный фитиль.
Трещит радар – голова
и светится дальний маяк.
А хрупкое, старое здание – дар,
где ритм и не так и не в такт.
Безумие смоет вину, точно кровь,
немое кино о уже мертвецах,
но свет заскользит разутюженным рукавом,
качая чудовищ на этих руках.
* * *
Ожидается дождь, бояться звуков.
Последние ворота: море ударов ножа
для привередливого слуха.
Только всей помадой закрасить нельзя
то, что мое тело не имеет границ, сыплются заговоренные четки,
рассеянный газовый свет
ослепших страниц,
рук неживых, глаз неморгающих контур нечеткий,
растерянный клад из монет.
Красное пасхальное яйцо, отданное в воскресенье Дьяволу.
Кто встрепенёт над тобой крыльями?
Руками, плетущими гобелен, словно стены, горят и расплавлены,
старым узором нити ложатся цветами чернильными.
* * *
Ни стыда, ни раскаянья в голосе,
дерево перевоплощения:
оковы земли разрывает поросль,
город полон колдовства и гниения.
Капли этой мороси, белые и прозрачные,
ниткой жемчуга раздаренные дни.
Выходили дорогами мрачными
призрачные корабли.
Невзрачным незрячим туманом,
заметелено белым начисто.
Перелицованным наизнанку обманом
мир ютится на игольном кончике, а правда прячется.
* * *
В борьбе светлых и темных начал
помни: нет никакой борьбы.
Отпустил одинокий вокзал
поцелуями без любви.
Что расплавленный искусственный шелк,
на твоем лице трепещет вуаль.
Этот пасмурный берег ушел,
как обрывок платья, гладить рыб – холодную сталь.
Прибой моря, растворенный в песке.
Задыхаясь от обожания, называть имена звуков,
жизнерадостный кошмар – язва в яблоке,
у меня язык – факел, твои ребра – ряды луков.
НОЧНИК
Ночник
Кто-то тебя ненавидел,
кому-то не было стыдно.
Тебя охраняют черти –
у них умирают дети.
Когда ты молишься Богу,
он, верно, тебя не слышит,
зато услышит другой,
пронзительный, злой и рыжий.
В аду последнее дерево
с пылающим радием сердцем,
дари любовь тем, кого здесь нет,
кричать в пустоту — привычка.
И вдруг один отзовется:
«меня так когда-то назвали»,
и запахом жженой кости
окутается мироздание.
Зачем была так красива,
когда осталась мертва?
Ты мой проводник, ты провод,
ты – голос, сходящий ночами,
ночник без конца и начала.
* * *
Голь,
поменяла дерево на бетон,
ночлежку на притон.
Ой!
Лунная убыль:
оловянный рубль,
раз хитра,
горечь выльется в ведро без дна.
Это время и место угасают,
кто расколдует и кто разгадает?
Слова – плети да удары ножа,
нищая, как душа,
вещая,
шрамом застывшая,
как во льду шаг.
* * *
Наша Таня громко плачет –
Уронила в речку мячик,
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч.
Ты утонешь в ней, Татьяна,
Может, поздно, может, рано.
Волокутся ветки ивы,
Труп лежит в них так красиво,
Ни одной на теле раны,
Лишь русалочьи забавы!
Потянуло вниз теченьем,
Бесконечное влеченье
Позовет к реке в ночи,
Ворон, стрекот саранчи,
Мимо ветхого моста,
Мимо храма для Христа.
Что тебя тянуло в воду,
Что влекло сквозь непогоду?
Синью губ и бледной кожей
На подруг ты непохожа.
Ухает на ёлке филин,
Для него ты будешь милой.
* * *
Заговоренная боль:
обитающее здесь существо,
прячь от света отвратительное естество,
как чужак, боящийся солнца, морская соль –
то единственное, что ты теперь пьешь.
Очертания черепов на моле стакана –
как покрывшая тебя ложь.
уронить, будто куколку, тело в скалы.
Так отвергнутого освободить,
хоронить свою чёрную, словно смолу, влюблённость…
Падший учится снова ходить,
не угадывать определенность.
* * *
Будда сливается с деревом,
Будда становится спелым.
Голос звучит, как стерео, –
переплетаясь с вселенной,
Будда будет сиять.
Разве нужно сияние
пеплу и расстоянию?
Ритм отбивает камлание,
пусть погаснет звучание,
лучше совсем не желать.
Падает плод с дерева,
время не будет потеряно,
потому что нет времени,
нет царя и нет пленника.
Хочешь еще поиграть?
Ноябрь
У ноября – крылья из арматур,
десять проклятий и одно особенное.
Этот Бог любит звуки врезающихся пуль,
туман, подобно молоку матери, собранный.
Я приведу к тебе смерть за руку,
лишь сочувствуя, но не прощая.
Грозовое облако – грязное яблоко,
заклинатель змей отрекается от молчания.
Свечку потухшую перевернуть вниз головой:
капелька меда в полуночный свет,
воск окровавленный, разумный рой,
где все препятствия – лишь амулет.
* * *
Жёлтый цветок отрицает чувство любви…
Яростный канкан на краю селфцеста.
Но об этом лучше солги,
разболтался капкан протеста.
Кто-то должен остаться здесь,
примиряясь с реальностью, примерять маски.
Смоляные глаза судьбы, бензин, туманная взвесь…
Девы ночи пчелами в ноябре так боятся твоей ласки.
Прятать кошмар за духами и локонами…
Говорят, что боги не умеют испытывать боль.
Позапутавшись в своём коконе,
поручи только мне сыграть эту роль.
* * *
Город наглотался кирпича,
старого и жжёного, что с привкусом угрозы.
Дымное дыханье палача
пропитало весь окрестный воздух.
Помни, я юродствую строкой,
как свеча, рыдающая над оскверненьем.
Ограждение из красных лент, загон,
забой – все, к чему ни прикасалось тленье.
Кто угодно проиграет битву.
Под концертными софитами – лишь хмурый неуют.
У глухонемой реальности – свои субтитры,
языкастым пламенем любви обвит жемчуг минут.
* * *
Я не буду тебя развлекать
ни дневной, ни вечерней порою.
Предлагаю лишь отыскать
пульса в венах, что сок под корою.
Где-то там такой же, как ты,
сводит все последние счёты.
Засыхают цветные цветы,
яркий свет – электричества ноты.
Моя муза – злой крысолов,
что не сводит застывшего взгляда,
дитя топких, чёрных болот,
всё отдаст… тонут чëтки из ягод.
* * *
Смотрит луна безликая
сквозь клетки рыбацкой сети
ночью в моё окно.
Я держу своё сердце на цепи
пятиконечной морской звездой.
Я буду последней, кто тебя помнит.
Ты мой алтарь.
Я ношу браслеты на обоих запястьях
в память о шрамах.
Последняя пасха в деревне…
Мир окрашен, как яйцо, в киноварь.
Значит, волчьи тропы выведут меня к тебе
под немой варган.
Жест – будто бы бросил приглашение
на одну с тобой ночь.
Седая виса – твоё опустошение,
молчание – признак пустой банки,
ракушки, что не первый год под водой.
* * *
Разорвав на себе вязь,
воя волком, бежать в лес.
Разве это благословение?
Забывать о том, кто ты есть,
кто приносит тебе поклонение.
Где твои касания – грязь,
только морока в воздухе взвесь,
тонким слоем туманная бязь.
Цвет весеннего солнца отдает томлением.
Так бессмысленно плодить из смерти смерть,
для мгновения веселясь,
если каждый рождённый проживёт ещё какое-то время.
Странных образов полнится галерея.
Этот свет вдалеке зеленее,
чем античная медь,
и никак нельзя разорвать эту цепь.
* * *
Два блуждающих огонька,
цвет моря тёмно-серый.
Словно кто-то курит этот туман:
нежная удавка, так гаснет фонарь
самый первый.
Мир поблëк, разве есть такое слово?
Весной – самые голодные крабы.
Ходить вокруг твоего пустого дома –
тактика медленных касаний, уловки слабых.
Странно узнавать себя в нём,
отражение у отражения – всё наоборот.
Перечеркни маску крестом,
я чудовище, ты тоже, плещет причал, догорает порт.
Ханастасис
Хаос воскрешения: Ханастасис.
Из земли руками чуждую силу поднять,
не касаясь, так, словно в экстазе,
не пытаться укротить или понять.
А бродячая собака берет хлеб,
словно нищая старуха – подаянье.
Возвращаться в место, ставшее пустым, седым, как снег, –
лучшее раскаянье и покаянье.
Ведь оно учило тебя колдовать,
принимать обыденность, она одна правдива,
выцвела луны печальная печать,
отраженный свет так жжет, как жжет крапива.
* * *
Что, если за пределами меня – ничего?
Я – позабытая капсула иллюзий, случайно заброшенная кинооператором в глубины мрачного космоса полок. Некому, просто некому подергать меня за плечо, сказать: «очнись, это все по-настоящему». Что, если одергивающий – иллюзия в иллюзии, часть сценария? Я никогда не узнаю, чем кончится фильм, не досижу до конца сеанса…

